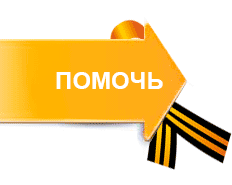О книге «Отец Арсений» главы из которой мы публиковали ранее, ходят противоречивые мнения. Бытует мысль, что, дескать, никакого старца Арсения в реальности не было, а это лишь собирательный образ. И рукописи о нем по Союзу не ходили, и издатели пишут об этом, дабы придать книге большей весомости. Я как-то подумал, что рукописи наверняка сохранились и достаточно их предъявить скептикам. И как бы в ответ на мои мысли в редакцию зашел молодой человек — Максим, и принес ксерокопию машинописного текста с нигде ранее неопубликованным рассказом.
О книге «Отец Арсений» главы из которой мы публиковали ранее, ходят противоречивые мнения. Бытует мысль, что, дескать, никакого старца Арсения в реальности не было, а это лишь собирательный образ. И рукописи о нем по Союзу не ходили, и издатели пишут об этом, дабы придать книге большей весомости. Я как-то подумал, что рукописи наверняка сохранились и достаточно их предъявить скептикам. И как бы в ответ на мои мысли в редакцию зашел молодой человек — Максим, и принес ксерокопию машинописного текста с нигде ранее неопубликованным рассказом.
Отец Арсений благословил своих духовных чад изложить, как они в условиях террора пришли к Богу и как сохраняли и приумножали веру, зная, что опыт каждого человека по-своему уникален и может поддержать других на тернистом земном пути.
А раз так, то и это повествование, не вошедшее в сборник, достойно внимания.
Далее приводим рассказ без изменений и сокращений.
Врезка редактора
Ольга Александровна рассказывала, а я торопливо записывала. Совершенно седая, она, однако, сохранила почти юношескую стройность, живые и умные глаза, привлекательную приветливость и доброту лица.
Сидя в кресле и положив руки на стол, Ольга Александровна смотрела куда-то поверх меня и говорила, то замедляя, то убыстряя свой рассказ, и я чувствую, что сейчас перед ее глазами проходят все события ее жизни, люди знакомые, любимые ею когда-то.
— Бежали мы из Москвы в девятнадцатом году от большевиков, разрухи и голода. Папу в дороге скосил тиф. Добрались до Ростова, сняли комнату, осматриваемся, как дальше жить. Сестре четырнадцать, мне восемнадцать, маме тридцать девять лет, но после смерти папы и ужасов в дороге изменилась она до неузнаваемости. Постарела и все время чем-то болела.
Работы раньше мы никакой не знали. Вещи, драгоценности, царские золотые десятки за полгода прожили полностью. Из большой комнаты перебрались в полуразрушенную сторожку в саду, сданную нам из милости за то, что мы с мамой убирали у хозяев весь дом и сад. Там, за чертой фронта, остались под Москвой имения, дом, вещи, а здесь — нищета. Дошло до того, что есть нечего. Все продано за бесценок. Беженцев в городе тьма-тьмущая. Знакомых и друзей много встречали, живут хорошо, но как увидят, что мы плохо живем или пришли просить о помощи, сразу меняются, другие просто перестают узнавать. Дошли до полной нищеты. Все продано, работы в городе нет. Одни умирают от голода, другие купаются в роскоши и проводят дни и ночи в кутежах.
Мама совсем слегла. Обошла я всех знакомых, просила о помощи, всюду получила отказ. Пришла домой, вижу, сестра плачет, мама лежит в какой-то непонятной прострации. Два дня в доме нет никакой еды. Вдруг сестра вскочила и стала судорожно одеваться и кричит:
— Пойду на улицу, деньги зарабатывать. Нечего с голоду умирать. — Наслушалась она разговоров во время нашей скитальческой жизни и много кругом видела.
Мама безвольно плачет, но ничего не говорит, а только изредка крестится. Поругались мы с сестрой, расплакались, а положение безвыходное. Что делать? Оделась я и пошла на улицу, добывать деньги. Была бы одна, лучше себя бы убила, а здесь нельзя: мама и сестра умирают от голода. Вышла, иду. Пытаюсь Бога просить о помощи, но понимаю, что надо принять беззаботный и радостный вид, а слезы лицо заливают. Что я тогда пережила? Нельзя даже передать. Улицы полны офицеров, автомобили, рысаки, коляски, кажущееся веселье, а я тащусь продавать себя. Кто это будет? Пьяный развратный старик, мальчишка-поручик или еще кто-то? Именно ужас и безумное отчаяние напали на меня, и мне хотелось броситься под экипаж, разбить голову о камни домов, но нельзя, дома голодные мама и сестра.
Страшно вспоминать и еще труднее рассказывать. Походила по улице минут тридцать, но никто ко мне не подходит, меня не берет. Таких как я много, да и опытные к тому же. И гонят меня эти женщины с улицы самыми скверными словами. Никто не берет меня, а деньги нужны. Домой идти нельзя и ходить больше не могу.
Решила, будь что будет, а жить больше нельзя. Пошла с улицы, сама не знаю куда, вдруг подходит офицер и развязно говорит:
— Девочка, ты свободна?
Взял меня под руку и спросил:
— К тебе пойдем, или в мебелерашки?
— Ко мне нельзя, мама дома.
Офицер, видимо, был пьян, пахло от него вином. Вошли в какое-то здание, офицер небрежно бросил хозяину, потребовал вина и, как сказал тогда, «закусона».
Я дрожу от ужаса предстоящего. Вошли в грязную обшарканную комнату. Офицер говорит полупьяным голосом, обнимает меня выше талии при коридорном, чему-то смеется. Коридорный ухмыляется, нагло смотрит на меня и говорит офицеру:
— Вы, Ваше благородие, бутончик охватили. Удовольствие законное получите.
Отвратительно, грязно, страшно.
Водку, вино, закуску принес. Офицер, когда ушел коридорный, налил в стакан водку и заставляет меня пить. Взяла я стакан, думаю, — выпью, и море будет по колено, да никогда не пила водку, поперхнулась сразу, и закашлялась. Поставила стакан нетронутым. Офицер смотрит на меня. Он молчит, я молчу, не зная, что делать дальше и вдруг офицер запел и мне говорит: «Подпевай».
У меня голова кружится от голода, страха, волнения, но раз продалась, надо петь. Запел он пьяным голосом что-то вроде «Мой шарабай американка, а я девчонка да хулиганка...», а я подпеваю.
Водки не пьет и не ест, а только номер стал тщательно осматривать. Подошел к двери, окнам, посмотрел на меня и сказал: «Ну, давай!».
Поняла я, раздеваться надо. Встала, отошла к кровати, кофточку расстегиваю, а пальцы дрожат, пляшут, ни одну пуговицу ухватить не могу. Юбку сняла. Стою в рубашке, ужас напал на меня, мысль одна — скорее бы все кончилось. Подняла голову кверху и — вижу в углу висит маленькая иконка, темная-темная, по очертанию ризы — Божия Матерь.
Толкнуло меня что-то ближе подойти к ней. Подошла и перекрестилась несколько раз, и сейчас помню, что именно говорила я про себя Божией Матери, но просила облегчить пройти мне этот страшный путь. На какие-то мгновения забыла я про офицера, грязную комнату, и то, что ожидает меня, и первый раз за долгое время вспомнила о Боге и о том, что может он помочь. Перекрестилась с мольбой, обернулась назад, увидела офицера и забила меня опять мелкая дрожь от страха.
Офицер внимательно посмотрел на меня и сказал совершенно трезвым голосом:
— Что-то ты перед таким делом задумала и от чего дрожь пробирает?
Молчу я, иду к кровати. Села на край ее и опять с мольбой взглянула на икону, и в это время хлопнули двери, где по коридору застучали громко сапогами и раздались голоса:
— Проверка документов! Откройте! — в соседних номерах стучали двери.
Офицер вдруг вскочил и начал судорожно снимать китель, бросил его на стул, снял один сапог, подошел ко мне и сказал:
— Как войдут, одеялом закройся и молчи.
Страшно, и кроме того, ничего не понимаю, но вижу, что офицер встревожен чем-то.
Стучат к нам в дверь: «Откройте!»
Офицер, с одним одетым на ноге сапогом пошел открывать. Вошли два офицера и солдат: «Документики Ваши, господин капитан!», а мой офицер полез в китель за документами и почему-то нарочито пьяным голосом сказал:
— Я тут с девочкой разговор серьезный веду, а Вы, господа офицеры, с документиками мне мешаетесь. И тычет им свои документы.
Один из пришедших подошел ко мне, откинул одеяло, посмотрел на меня и сказал:
— Продолжайте, господин капитан, продолжайте, — и отпустив в мой адрес циничную шутку, вышел. Другой посмотрел документы, взглянул только на меня и вышел вместе с солдатом.
Капитан запер двери и, мгновенно протрезвев на моих глазах, подошел ко мне и сказал:
— Пронесло!
— Что с Вами? — спрашиваю.
Молчит. Потом посмотрел на меня и говорит:
— Ты что, в первый раз вышла? Ведешь себя по странному.
Я ему тут все рассказала. Говорю и плачу.
Выслушал капитан и спросил:
— Ты далеко живешь? Уходить нам с тобой надо.
Позвонил коридорному, потребовал еще водки с закуской зачем-то. Закрыл дверь и сказал мне: «Одевайся!»
Осмотрел номер, свет потушил, окна открыл, еще раз все осмотрел, посидели мы еще около двух часов. Вызвал коридорного и сказал:
— Хочу, братец, к девице пойти.
— Помилуйте, Ваше благородие, сейчас комендантский час, по городу и не пройдешь, и у гостиницы охрана стоит.
Капитан достал деньги и сказал:
— Выведи черным ходом, хочу к ней домой.
Вывел нас в сад при гостинице, как к дому добрались одному Богу известно.
Прожил у нас Борис почти месяц, днем старался не выходить, а по ночам куда-то уходил по разным адресам. Днем меня посылал.
Спас нас от голода и, уходя, деньги оставил. Хороший, добрый и душевный человек оказался. Привязалась я к нему. Понимала, конечно, что не спроста он в городе тайно живет под видом офицера, но никогда не спрашивала. Зачем?
Месяца через три-четыре пришли в город красные части, а недели через три пришел к нам Борис, но не капитан уже, а одет во все кожаное, как тогда комиссары ходили.
Встретили мы его как родного, рассказал он нам, что послан был в город, занятый белыми, для работы среди рабочих и разведки.
Устроил на работу меня и маму и пока был в городе часто заходил к нам и помогал, чем мог. Кем он при красных в городе работал, не знаю, а в то время назывались комиссарами. Года через полтора, а может быть и меньше, сказал нам, что переводят его в Москву, нам также посоветовал переехать, благо, для его учреждения давали целый товарный вагон для переезда.
Переехали мы, устроил нас Борис на работу, помог получить ордер на комнату. В Москве заходил к нам часто, но года через два перевели его куда-то в Сибирь. Приезжая в Москву заходил к нам, переписывались мы с ним часто. Писали мама и я.
Приедет в Москву, зайдет к нам и скажет:
— Ну! Молишься все?— Молюсь, — отвечала я, и действительно много молилась и ходила в церковь.
Потом пристала к одной церкви, где организовалась община. Священник был там замечательный, духовный, сам человек большой веры. Особенный. Стала эта община центром всей моей жизни, как и многих там бывавших.
— Говорить, тебе, милая, об этой общине не надо, сама все хорошо знаешь, — сказала мне Ольга Александровна.
— В первые же месяцы рассказала отцу-духовнику о своей жизни в Ростове и о случае с Борисом. Внимательно меня батюшка выслушал и сказал:
— Милостив был Господь к Вам. Чудо это, конечно, было. Но как всегда господь делает все незаметно. Божие это произволение. О Борисе обязательно молитесь, думаю, что Господь его не оставит.
Борис в эти годы долго жил в Сибири, занимал большие должности, и мы с ним, как я уже говорила, переписывались. В начале тридцать второго года вернулся он в Москву, я к тому времени вышла замуж. Детей не было, любили мы друг друга, но к сожалению, муж был беспричинно ревнив. Когда получала от Бориса письма, Федор смотрел на них с тревогой. О Ростове я мужу не рассказывала, только упомянула, что с Борисом там познакомилась.
Борис приезжал в Москву с женой и двумя девочками: Катей и Машей. С женой Бориса — Верой, мы быстро сдружились, а Федор еще долго косо смотрел на Бориса. Друг у друга часто бывали, хотя взгляды у нас были разные.
Скрывать не буду — было у меня к Борису какое-то двойное чувство. Мужа любила, но когда встречалась с Борисом, что-то смещалось во мне и тянуло к нему, а если долго не бывал, то скучала. Федор это, вероятно, замечал, и переживал.
Конечно, Борис рассказал мне, зачем в Ростов при белых приезжал, зачем в меблированные комнаты со мной пошел, зачем водку проливал и меня заставил раздеться. Разведка белых тогда за ним следила, и он хотел сойти за фронтового гуляку, и меня для «прикрытия» взял на улице. Говорил, что страшно был удивлен, когда я молиться на икону начала: «Девка, и вдруг молится».
Еще тогда в Ростове после моего спасения, стала я в церковь почти каждый день ходить и познакомилась там с Марией Тимофеевной, оказавшей на меня большое влияние в духовном отношении.
Мама была верующей, но как-то по интеллигентному. Бог есть, а что дальше — не знала. Знала две-три молитвы и в церковь ходила для создания настроения.
Мария Тимофеевна до приезда в Москву во многом меня наставила и, кстати сказать, почти одновременно с нами переехала в Москву.
Я сейчас уже старуха, а Мария Тимофеевна до сих пор жива, к восьмидесяти пяти годам приближается. Стала она теперь какой-то особенной, светлой, доброй, вероятно, такие монахини-старицы в скитах жили.
Отцу своему духовному и Марии Тимофеевне рассказывала я о своем отношении к Борису. Оба сказали — молиться надо больше и семью не оставлять без внимания.
В 1936 году Борис заходил к нам редко, а Вера, жена его, рассказывала, что нервничает он, все время мрачный. Большие неприятности у него на работе. Многих забрали за вредительство.
Помню, вышел как-то Борис грустным, а я его спрашиваю:
— Что с тобой?
Посмотрел он на меня растерянно и сказал:
— Кругом Бог знает, что творится, аресты, расстрелы. Страшно не за себя, а за детей, народ, страну, — потом смутился и произнес, — Оля, не удивляйся, но помолись Богу о семье и обо мне, Борисе. Помолись, очень прошу. Обнял меня, расцеловал и ушел, какой-то грустный, печальный.
Вера в этом году часто заходила к нам и говорила о неприятностях на своей работе и у Бориса, да и я с Федором видела происходящее. Начиная с тридцать пятого года, прошла волна разных процессов, арестов, репрессий, и было трудно понять причины происходящего. Каждый из нас был не уверен в завтрашнем дне.
В феврале тридцать седьмого года, часов около девяти вечера, пришел к нам Борис, усталый, расстроенный. Хотел не раздеваться, но мы с Федором заставили. Сел и сказал:
— С партийного собрания я, плохи мои дела, исключали из партии «врагов народа» и со всеми ими я дружил: знал, как честных людей, отдавших жизнь за Родину, преданных. Выступил в защиту — не мог молчать, но не поняли меня, не захотели понять. Осудили, назвали «врагом народа». Вероятно, скоро возьмут.
Сел и глубоко задумался, потом встал, походил по комнате, подошел к шкафчику с иконами, открыл его и долго молча стоял и смотрел на иконы.
Мы с мужем тоже молчали. О чем так долго и сосредоточенно думал Борис? Молился? Мы не знали.
— Надо идти, — в раздумье произнес Борис. Я подошла к иконам, взяла образок Божией Матери Казанской и спросила: «Можно благословить?», он низко склонил голову, приложился к иконе три раза и сказал:
— Пойду. Прошу только, Веру с детьми не забывайте и не оставляйте.
Подошла я к нему, а у него слезы. Обняла его, и вдруг схватил он меня и плача стал целовать. Обнял потом Федора, еще раз поцеловал меня и вышел.
Арестовали его вместе с Верой в эту же ночь девочек в детский дом сразу не взяли, сказали, что выясним, куда помещать. Соседка на другой день мне вечером позвонила, поехала я и сейчас же взяла Катю и Машу к себе. Федор вначале недоволен был, а потом полюбил девочек. Воспитали мы их. Хорошие выросли, обе верующие. Замужем уже давно, живу у Маши. Борис с Верой где-то погибли, известий о них никаких не было.
В 1958 году запросили девочки прокуратуру — что с отцом и матерью. Сообщили им: «Борис Сергеевич Логинов и Вера Петровна полностью реабилитированы, и при этом посмертно».
Во всем Господи, Воля Твоя и сила. Верю, что не забудешь нас грешных, — так закончила свой рассказ Ольга Александровна.
... Старая я теперь стала, память слабеет, но это, что рассказала, хорошо помню.
Маша и Катя были нашими хорошими друзьями, и Ольга Александровна знала меня с двенадцати лет, но сейчас я увидела особую страницу ее жизни, почтение которой показало, какими неизведанными путями идут люди к Богу.
Рассказ этот записан после смерти о. Арсения, весьма ценившего и любившего
Ольгу Александровну.
Архив газеты "Тайны века", Харьков, 2005